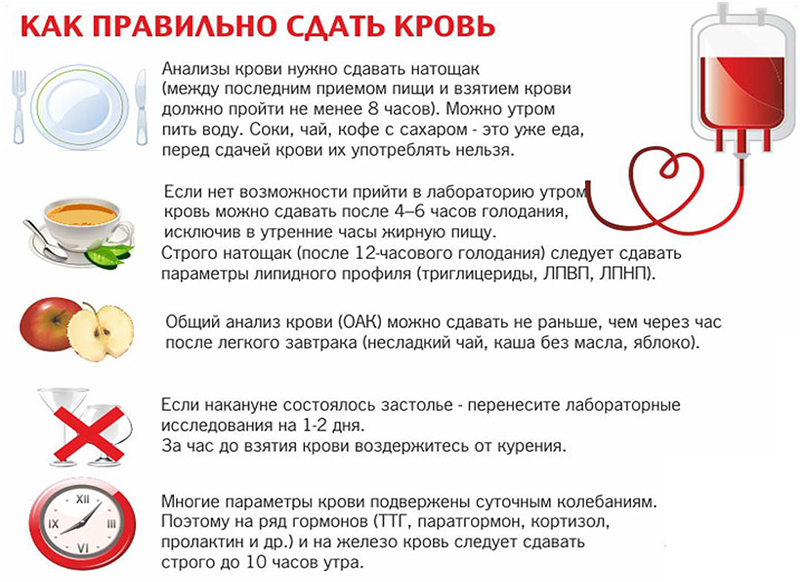Бронхиальная астма руководство 2015

АХДД — антихолинергические препараты длительного действия
БА — бронхиальная астма
БАДД — β2-адреноагонисты длительного действия
БАКД — β2-адреноагонисты короткого действия
ИГКС — ингаляционные глюкокортикостероиды
ИКЧ — индекс курящего человека
ИМТ — индекс массы тела
КЖ — качество жизни
ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1-ю секунду
СГКС — системные глюкокортикостероиды
ТБА — тяжелая БА
ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь легких
GINA — Глобальная инициатива по БА
Известно, что тяжелой бронхиальной астмой (ТБА) страдают 5—10% больных этим заболеванием [1] и именно они относятся к группе высокого риска госпитализаций и летального исхода. Лечение пациентов с неадекватно контролируемой ТБА требует значительных расходов, на долю которых приходится более 80% ресурсов здравоохранения от затраченных на терапию бронхиальной астмы (БА) [2].
В нескольких выполненных в странах Западной Европы (INFUMOSA, U-Biopred) [3, 4], и США (SARP-I, II, III) [5] международных программах с отличающимися принципами диагностики и критериями включения показаны патофизиологические и клинические особенности таких пациентов. В 2014 г. опубликован международный согласительный документ по ТБА [6] экспертов Европейского респираторного (ERS) и Американского торакального общества (ATS). В России проблема ТБА впервые обозначена в национальном исследовании НАБАТ [7]. Целью настоящей работы явилась клиническая характеристика больных ТБА, встречающихся в клинической практике.
В когортное одномоментное исследование включены 119 амбулаторных пациентов в возрасте от 22 до 82 лет (средний 55 лет), направленные на консультацию терапевтами и врачами общей практики. Диагностику ТБА осуществляли на основе критериев ERS/ATS (2014). Больным выполняли спирометрию с оценкой обратимости обструкции (Спирограф 2120, «Vitalograph», Великобритания), проводили измерение индекса массы тела (ИМТ). Атопический статус оценивали по результатам кожных проб (прик-тесты) или уровню специфических IgE в сыворотке крови к основным ингаляционным аллергенам. Количество эозинофилов в периферической крови определяли импедансным методом на автоматическом гемоанализаторе. Оксид азота выдыхаемого воздуха (Fractional exhaled nitric oxide — FeNO) измеряли на хемилюминесцентном газоанализаторе («Logan 4100», Великобритания).
Определение вариантов или фенотипов БА проводили согласно классификации Г.Б. Федосеева (1982) и рекомендаций Глобальной инициативы по БА (GINA, 2014). Для диагностики сочетания БА и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) использовали большие и малые критерии [8]. Качество жизни (КЖ) пациентов и уровень контроля БА определяли при помощи русских версий вопросника госпиталя Святого Георгия (SGRQ) и теста АСQ-5 соответственно. Пациенты вели дневники самоконтроля, в которых отмечали выраженность симптомов, используемую терапию и показатели пикфлоуметрии. Обострения Б.А. регистрировали по записям пациентов и данным медицинской документации.
Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета программ Statistica-10 по общепринятым в медико-биологических исследованиях методам.
Характеристика больных представлена в табл. 1. Среди пациентов с ТБА преобладали женщины. ИМТ повышен и у мужчин, и у женщин. У большинства пациентов заболевание дебютировало в возрасте старше 12 лет («поздняя» БА). У многих больных ранее определена стойкая утрата трудоспособности. Пациенты получали терапию БА согласно 4-й и 5-й ступеням по GINA (2014). Мужчины с ТБА реже чем женщины применяли ИГКС. В табл. 2 отражено наличие пусковых факторов обострений ТБА в окружении пациентов. Более чем у 50% больных (особенно среди мужчин) имелся анамнез курения и многие являлись активными курильщиками. Многие пациенты не выполняли рекомендации врачей по обеспечению гипоаллергенного быта и держали дома животных и птиц.
 Таблица 1. Характеристика пациентов с ТБА Примечание. Здесь и в табл. 2: данные представлены в виде абсолютного числа больных (%) или среднего значения признака (минимум—максимум); различия показателей между группами мужчин и женщин достоверны (* — р<0,05, ** — р<0,01). ИГКС — ингаляционные глюкокортикостероиды; СГКС — системные глюкокортикостероиды; БАКД — β2-адреноагонисты короткого действия; БАДД — β2-адреноагонисты длительного действия; АХДД — антихолинергические препараты длительного действия.
Таблица 1. Характеристика пациентов с ТБА Примечание. Здесь и в табл. 2: данные представлены в виде абсолютного числа больных (%) или среднего значения признака (минимум—максимум); различия показателей между группами мужчин и женщин достоверны (* — р<0,05, ** — р<0,01). ИГКС — ингаляционные глюкокортикостероиды; СГКС — системные глюкокортикостероиды; БАКД — β2-адреноагонисты короткого действия; БАДД — β2-адреноагонисты длительного действия; АХДД — антихолинергические препараты длительного действия.
 Таблица 2. Пусковые факторы обострений у пациентов с ТБА Примечание. *** — р<0,001. ИКЧ — индекс курящего человека.
Таблица 2. Пусковые факторы обострений у пациентов с ТБА Примечание. *** — р<0,001. ИКЧ — индекс курящего человека.
Среди больных с ТБА у большинства (77%) выявлена аллергическая (атопическая) форма заболевания. Аспириновая Б.А. отмечалась в 9,2% случаев, гормонозависимая БА — в 13%. ТБА сочеталась с ХОБЛ в 37% случаев. У 86% пациентов имелись признаки неаллергической БА (инфекционно-зависимая, нервно-психическая, астма физического усилия). В 83% случаев выявлены 2 варианта течения БА и более.
По данным изучения спектра сенсибилизации больных ТБА (см. рисунок) основными явились аллергены клещей домашней пыли — Dermatophagoides pteronyssimus и Dermatophagoides farinae. Моносенсибилизация выявлена у 33% больных ТБА, сенсибилизация к 2 группам аллергенов — у 50%, полисенсибилизация (положительная реакция на 3 группы аллергенов и более) — в 17% случаев. Отрицательные результаты аллергологического обследования получены у 22% больных ТБА. При наличии анамнеза курения частота выявления атопии снижалась при увеличении ИКЧ (r=–0,3; p<0,05).
 Спектр сенсибилизации больных ТБА, %.
Спектр сенсибилизации больных ТБА, %.
У отдельных пациентов проводилось изучение маркеров эозинофильного воспаления дыхательных путей (эозинофилия периферической крови, FeNO). Полученные данные представлены в табл. 3. Хотя бы один положительный маркер эозинофильного воспаления, несмотря на лечение, повышен у 63% больных ТБА, при этом имелась корреляция между уровнями эозинофилов в периферической крови и FeNO (r=0,32; p<0,05).
 Таблица 3. Маркеры эозинофильного воспаления дыхательных путей у больных ТБА
Таблица 3. Маркеры эозинофильного воспаления дыхательных путей у больных ТБА
При сочетании БА и ХОБЛ (37% пациентов) у 68% больных первой возникла БА (средний возраст 41 год), затем на фоне длительного курения и/или воздействия профессиональных вредных факторов присоединилась ХОБЛ (в возрасте около 50 лет). У 32% пациентов изначально развилась ХОБЛ (средний возраст 54 года), а затем стали возникать симптомы «поздней» БА, выявлялся достоверный прирост в пробе с бронхолитиком, и диагноз БА установлен в среднем в 57 лет. У 60% больных этой группы ранее отмечались проявления аллергии (аллергический ринит, непереносимость лекарственных препаратов и др.), а также отягощенная наследственность.
При характеристике пациентов с ТБА в зависимости от статуса курения выявлено, что мужской пол преобладал как среди курящих на момент обследования (12% против 39%; р<0,01), так и среди отказавшихся от курения (12% против 32%; р<0,05). Диагноз Б.А. у пациентов без анамнеза курения устанавливали раньше (в 33 года), чем у курильщиков (в 42 года; p<0,05). При изучении показателей спирометрии больных с ТБА выявлено, что объем форсированного выдоха за 1-ю секунду — ОФВ1 (% от должного) у никогда не куривших пациентов оказался выше, чем у куривших ранее (58% против 51%; р<0,05) или продолжает активно курить (58% против 46%; р<0,01). ОФВ1 у пациентов с сочетанием БА и ХОБЛ достоверно ниже, чем у курящих без ХОБЛ (46% против 54%; р<0,05). Прирост ОФВ1 после ингаляции бронхолитика в исследуемых группах не различался в зависимости от статуса курения, но был ниже при сочетании ТБА с ХОБЛ. Персистирующая обструкция (отсутствие нормализации соотношения ОФВ1/форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) после пробы c сальбутамолом) отмечалась у 76% больных ТБА и у курильщиков была более выражена, чем у некурящих пациентов (ОФВ1/ФЖЕЛ 54±2,3% против 65±2,8%; p<0,01).
У 82% больных ТБА отмечалось неконтролируемое течение заболевания. Только у 8% достигнут полный и у 10% — частичный контроль Б.А. Не выявлено связи контроля БА и КЖ со статусом и интенсивностью курения, с наличием или отсутствием ХОБЛ. Средняя оценка по шкале ACQ-5 при ТБА положительно коррелировала с показателями КЖ: с симптомами (r=0,4; p<0,05), активностью (r=0,3; p<0,05), влиянием болезни (r=0,4; p<0,05) и общей оценкой в баллах (r=0,4; p<0,05).
В течение предшествующего обращению года больные ТБА в среднем переносили 1,94±0,13 обострения на пациента, при этом потребность в СГКС составила 1,24±0,15 курса, в антибактериальной терапии — 1,16±0,10 курса. Тяжелые обострения БА (0,62±0,12 на пациента в год) и обострения средней тяжести (1,14±0,08) отмечались чаще, чем легкие (0,24±0,05; р<0,01 и р<0,001 соответственно). У работавших больных ТБА среднее число листков временной нетрудоспособности за предшествовавший год составило 1,79±0,22 на пациента, при этом среднее число дней нетрудоспособности в течение года достигало 27,94±3,27.
Уровень FeNO у некурящих пациентов с ТБА оказался выше (54±8,8 ppb), чем у отказавшихся от курения (29±7,7 ppb; р<0,05) и активно курящих (17±4,1 ppb; р<0,01). Уровень эозинофилии в периферической крови не различался в зависимости от статуса курения. Хотя бы один положительный маркер эозинофильного воспаления чаще выявлялся у некурящих пациентов по сравнению с курящими (71% против 47%; р<0,05).
При оценке проводимой терапии выявлено, что курящие пациенты с ТБА реже применяли ИГКС (78%), чем отказавшиеся от курения (95%; р<0,05). Степень соблюдения схемы назначенного лечения (прием более 75% назначенных доз ИГКС) у курящих оказалась существенно ниже (39%), чем у никогда не куривших (72%; р<0,01) или прекративших курить (69%; р<0,05) больных. Частота использования препаратов других групп лекарственных, суточные дозы ИГКС и СГКС у пациентов не различались в зависимости от статуса курения.
В нашей стране в последние годы опубликовано немного работ, дающих клиническую характеристику пациентов с ТБА в клинической практике. В национальном исследовании БА тяжелого течения НАБАТ [7] исходно ни у одного пациента не отмечено контролируемого течения заболевания и на фоне лечения ИГКС/БАДД хороший контроль БА достигнут более чем у 80% больных. В проект не включались пациенты с ОФВ1/ФЖЕЛ <70% от должного после ингаляции бронхолитика, с отрицательной бронхолитической пробой, страдающие тяжелыми соматическими заболеваниями. Не обозначена частота развития аллергической БА, неизвестен возраст дебюта БА, не указана частота курения. В клинической практике врачам нередко приходится встречаться с курящими больными БА, с сочетанием ТБА и ХОБЛ или сопутствующих заболеваний других органов и систем, что накладывает ограничения на возможность применения стандартных методов терапии. Среди наших пациентов ТБА сочеталась с ХОБЛ в 37% случаев, что выше, чем в ряде других работ [9]. Возможной причиной этого является то, что в наше исследование включались только пациенты ТБА и не исключались курильщики.
Известно, что ТБА является гетерогенным заболеванием [5, 10]. В связи с этим невозможно характеризовать пациентов только по одному клиническому или физиологическому показателю. В результате факторного анализа [11] выявлено, что функция легких, гиперреактивность бронхов и воспаление дыхательных путей являются разными характеристиками этого заболевания. С целью идентификации различных фенотипов БА при сопоставлении клинических данных и показателей воспаления (эозинофилии мокроты) применен многофакторный математический подход [10]. В исследовании SARP [5] также использован кластерный анализ, который позволил определить ключевые факторы, ассоциированные с тяжелым течением БА, — женский пол, ожирение, негроидная раса и воздействие пассивного курения, при котором отмечались более выраженные обструкция дыхательных путей и гиперреактивность бронхов.
При сравнении наших данных с результатами исследований ENFUMOSA, BIOAIR и SARP выявлено, что среди больных также преобладали женщины, основным аллергеном являлись клещи домашней пыли, отмечались низкие показатели функции легких с компонентом необратимой обструкции дыхательных путей, несмотря на использование высоких доз контролирующих препаратов и средств неотложной терапии. При этом наши пациенты были несколько старше, КЖ и контроль БА у них хуже и ОФВ1 ниже. Возможно, это связано с высокой частотой курения, недостаточным соблюдением пациентами схемы назначенного лечения и сочетанием с ХОБЛ у ряда пациентов.
Выявленные в нашей работе положительные корреляции между КЖ при ТБА и уровнем контроля заболевания подчеркивают важность усилий для достижения контроля БА и устранения препятствующих этому факторов, в том числе курения.
Предполагается, что содержание эозинофилов в периферической крови ≥150 кл/мкл [12, 13] и концентрация FeNO ≥25 ppb [14] являются маркерами эозинофильного воспаления дыхательных путей. В нашем исследовании они выявлены у 63% больных ТБА. Полученные данные могут свидетельствовать о необходимости использования в лечении более высоких доз ИГКС и подтверждают перспективы применения у таких пациентов биологических препаратов, направленных на подавление ответа, обусловленного Th2 (омализумаб, анти-ИЛ-5, 4, 13 и др.). В GINA (2015) при ТБА обсуждается возможность применения комбинации 3 групп препаратов (ИГКС/БАДД/АХДД) уже в качестве первого эмпирического варианта терапии с последующим специфическим для данного фенотипа лечением. В нашей выборке только 12% больных ТБА применяли АХДД и 3% использовали анти-IgE-терапию, что, вероятно, отражает существующие возможности для улучшения помощи таким пациентам.
Курение является одним из клинически значимых факторов, которые при БА влияют на развитие клинических проявлений и эффективность терапии [15]. Полученные нами данные подтверждают, что для курильщиков с ТБА свойственны более низкие, чем для некурящих, показатели функции легких. Уровень FeNO у курильщиков менее информативен, чем у некурящих.
Таким образом, результаты выполненной работы свидетельствуют, что ТБА является гетерогенным заболеванием. У 83% пациентов с ТБА выявлены 2 варианта течения болезни и более. Аллергическая (атопическая) БА часто встречалась при тяжелом течении заболевания (77%). Аллергены клещей домашней пыли являлись ведущими в спектре сенсибилизации пациентов. У 82% пациентов отмечалось неконтролируемое течение заболевания и у 76% выявлялась неполностью обратимая обструкция бронхов. Маркеры эозинофильного воспаления дыхательных путей, несмотря на терапию, выявлены у 63% больных ТБА. Высока степень соблюдения схемы лечения (прием более 75% назначенных доз препаратов) отмечена у 61% пациентов с ТБА. Среди больных ТБА анамнез курения имели 59% и активно курили на момент обследования 27%. У курильщиков отмечались более низкие показатели функции легких и уровень FeNO. Курящие пациенты в меньшей степени соблюдали схему базисной терапии ИГКС. ТБА сочеталась с ХОБЛ в 37% случаев.
С учетом гетерогенности заболевания требуется совершенствование терапии тяжелой неконтролируемой БА. В настоящее время в лечении с успехом используются анти-IgE-антитела (омализумаб). В ближайшие годы терапия моноклональными препаратами для лечения БА будет расширяться, так как в настоящее время проводятся многочисленные клинические исследования, направленные на различные ключевые медиаторы воспаления: IL-5, IL-5Rα, IL-4Rα, IL-13, CRTH2 и др.
Источник
Для цитирования. А.А. Зайцев. Бронхиальная астма у взрослых: ключевые вопросы диагностики и фармакотерапии // РМЖ. 2015. № 18. С. 1096–1100.
«Астма – это когда ходишь в четверть шага, думаешь в четверть мысли,
работаешь в четверть возможности и только задыхаешься в полную мощь»
К.Г. Паустовский
Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных и социально значимых заболеваний человека. Так, среди взрослого населения европейских стран распространенность БА составляет 6–9%, в США – 11% [1–5]. Согласно официальной статистике, распространенность астмы в России составляет около 3%. В то же время результаты отдельных эпидемиологических исследований позволяют уточнить истинную распространенность БА в Москве – 6,4%, Екатеринбурге – 6,2%, Иркутске – 5,6%. Экспертами Российского респираторного общества признается, что распространенность БА среди детей составляет от 5,6 до 12,1%, а среди взрослых – 5,6–7,3%. В абсолютных цифрах можно предположить, что в России общее число больных БА составляет как минимум 7 млн человек [6, 7].
Проблема усугубляется тем, что больные БА нуждаются в продолжительной медицинской помощи, что требует больших экономических затрат. В развитых странах затраты на ведение пациентов с БА составляют 1–2% от бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение. Экономическое бремя БА связано не только с высокими расходами на лечение, но и с затратами, связанными с потерей работоспособности и снижением качества жизни больных [1]. Согласно российским данным, общие расходы на ведение больных БА в 2007 г. составили более 11 млрд руб. [8]. Из них порядка 6 млрд руб. составляют расходы на оказание неотложной помощи и стационарное лечение пациентов в связи с обострением заболевания или ухудшением состояния из-за недостаточно эффективной терапии. Очевидный рост затрат вследствие неадекватной базисной терапии подтверждается целым рядом исследований [9–11]. Таким образом, рациональный выбор терапии для достижения и поддержания контроля над клиническими проявлениями БА является чрезвычайно важной задачей [12–14].
Типичные симптомы БА, отмечаемые большинством пациентов, включают: экспираторную одышку, свистящее дыхание, кашель и заложенность в груди [12]. Наиболее часто симптомы БА проявляются ночью или сразу после пробуждения, а также после физической нагрузки, что зачастую приводит к ограничению физической активности пациентов. Важным этапом клинической оценки БА является оценка внелегочных проявлений аллергии – прежде всего аллергического ринита, конъюнктивита, атопического дерматита. Диагноз БА устанавливается на основании жалоб и анамнестических данных пациента, клинико-функционального обследования с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, специфического аллергологического обследования (кожные тесты с аллергенами и/или специфический иммуноглобулин класса Е (IgЕ) в сыворотке крови) и исключения других заболеваний. Важнейшим фактором диагностики является тщательный сбор анамнеза, который укажет на причины возникновения, продолжительность и разрешение симптомов, наличие аллергических реакций у пациента и его кровных родственников, причинно-следственные особенности возникновения признаков болезни и ее обострений.
Начало заболевания БА в большинстве случаев приходится на детский и юношеский возраст. Однако дебют болезни может быть в любом возрасте, и начало болезни у взрослых и даже пожилых пациентов не является редкостью. Вместе с тем бронхообструктивный синдром, впервые развившийся в пожилом возрасте, требует проведения дифференциальной диагностики с целым рядом сходных по клиническому течению заболеваний (хроническая обструктивная болезнь, тромбоэмболия легочной артерии, острая левожелудочковая недостаточность, опухолевый процесс в легких и др.). Важно установить связь появления симптомов БА после контакта с аллергеном, сезонную вариабельность симптомов, сочетание с ринитом, наличие в семейном анамнезе атопии или БА. Иногда встречается кашлевой вариант БА, когда единственным проявлением заболевания является кашель, беспокоящий преимущественно в ночные часы.
Клинические признаки, повышающие вероятность наличия БА [12]:
1) наличие более одного из следующих симптомов: хрипы, удушье, чувство заложенности в грудной клетке и кашель, особенно в случаях ухудшения симптомов ночью и рано утром; возникновение симптомов при физической нагрузке, воздействии аллергенов и холодного воздуха; возникновение симптомов после приема ацетилсалициловой кислоты или β-блокаторов;
2) наличие атопических заболеваний в анамнезе;
3) наличие астмы и/или атопических заболеваний у родственников;
4) распространенные сухие свистящие хрипы при аускультации;
5) низкие показатели пиковой скорости выдоха (ПСВ) или объема форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) (ретроспективно или в серии исследований), необъяснимые другими причинами;
6) эозинофилия периферической крови, необъяснимая другими причинами.
Специальные методы диагностики БА включают исследование вентиляционной функции легких с оценкой обратимости бронхиальной обструкции, выявление бронхиальной гиперреактивности, проведение специфического аллергологического обследования. При проведении спирометрии важным параметром является ОФВ1, указывающий на степень бронхиальной обструкции. Бронходилатационный тест считается положительным, если после ингаляции бронходилататора величина прироста ОФВ1 составляет ≥12% от должного или абсолютный прирост составляет 200 мл и более (для заключения о положительном тесте обязательно достижение обоих критериев). У пациентов с показателями спирометрии в пределах нормы следует провести дополнительное исследование для выявления бронхиальной гиперреактивности – ингаляционный тест с метахолином. Тест является высокочувствительным, поэтому положительный результат является подтверждением БА. Мониторирование ПСВ используется для выявления повышенной суточной вариабельности показателей, характерных именно для БА (вариабельность показателей ПСВ или >30% в течение 1 сут). Характерным признаком БА является эозинофилия периферической крови (более 0,4х109/л), в анализах мокроты обнаруживаются также эозинофилы, кристаллы Шарко – Лейдена, спирали Куршмана. Среди дополнительных тестов стоит упомянуть аллергологическое обследование, позволяющее выявить чувствительность к различным аллергенам, определение общего и специфических IgE. Проба с физической нагрузкой используется для подтверждения БА у детей и подростков. После 7-минутных упражнений более чем у 90% детей с БА наблюдается снижение ОФВ1.
В зависимости от факторов, провоцирующих обострение, выделяют различные клинические формы БА: аллергическая (атопическая), аспириновая, астма физического усилия и др. Аллергические механизмы имеют преобладающее значение (~80% случаев) в развитии детской астмы и обнаруживаются более чем в 50% случаев у взрослых. Такая астма нередко сочетается с аллергическим ринитом, конъюнктивитом и дерматитом. Отмечается гиперчувствительность к различным аллергенам. Для аспириновой астмы характерна триада симптомов: БА, полипозный риносинусит и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов. Астма физического усилия характерна для молодого и детского возраста (приступ бронхоспазма провоцируется физической активностью – ходьбой, бегом и т. д., причем симптомы возникают не во время действия фактора, а через 5–30 мин после него. Нередко провоцирующим фактором обострения БА является вирусная инфекция, поэтому говорят об инфекционно-зависимой астме. В ряде случаев выделить какой-либо механизм не представляется возможным, поэтому в клинических диагнозах встречается термин «смешанная форма БА».
По степени тяжести БА делится на интермиттирующую и персистирующую (легкой, средней и тяжелой степени тяжести) (табл. 1).
В руководстве GINA (The Global Initiative for Asthma) в настоящее время рекомендована 3-уровневая классификация БА по уровню контроля клинических признаков и характеристике внешнего дыхания (контролируемая, частично контролируемая и неконтролируемая БА) (табл. 2). Такой подход лучше описывает состояние болезни на фоне проводимых лечебных мероприятий, отражает понимание того, что тяжесть БА зависит не только от выраженности симптомов заболевания, но и от ответа на терапию.
Целями фармакотерапии БА являются достижение и поддержание клинического контроля над заболеванием в течение длительного периода времени с учетом безопасности терапии, потенциальных нежелательных реакций и стоимости лечения [12, 14–15]. Увеличение потребности в препаратах неотложной помощи, особенно ежедневное их использование, указывает на утрату контроля над БА и необходимость пересмотра терапии. Если текущая терапия не обеспечивает контроля над БА, необходимо увеличивать объем терапии до достижения контроля. В случае достижения частичного контроля над БА следует рассмотреть возможность увеличения объема терапии с учетом наличия более эффективных подходов к лечению, их безопасности, стоимости и удовлетворенности пациента достигнутым уровнем контроля. При сохранении контроля над БА в течение 3 мес. и более возможно уменьшение объема поддерживающей терапии с целью установления минимального объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для поддержания контроля.
Фармакотерапия БА включает в себя 2 вида препаратов: препараты неотложной помощи (купирование бронхоспазма) и препараты для базисной («поддерживающей») терапии. К первым относятся β2-агонисты короткого и длительного действия (сальбутамол, фенотерол, формотерол), ингаляционные антихолинергические препараты (ипратропия бромид, тиотропия бромид). Препараты базисной терапии: ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и системные кортикостероиды, комбинированные препараты (пролонгированные β2-агонисты + ИГКС), пролонгированные теофиллины, антагонисты лейкотриеновых рецепторов и антитела к IgE.
ИГКС являются препаратами первой линии в терапии БА, они показаны для лечения персистирующей БА любой степени тяжести [12–14]. ИГКС, составляющие основу базисной противовоспалительной терапии БА, предотвращают развитие симптомов и обострений болезни, улучшают функциональные показатели легких. Раннее назначение ИГКС может улучшить контроль БА и нормализовать функцию легких, а также предотвратить развитие необратимого поражения дыхательных путей. В клинической практике применяются следующие ИГКС: беклометазона дипропионат (БДП), будесонид, флютиказона пропионат, мометазона фуроат и циклесонид.
Отдельной строкой необходимо выделить, что в лечении среднетяжелой и тяжелой БА наиболее эффективной и перспективной является комбинация ИГКС и длительно действующего β2-агониста (ДДБА) [12–14]. В настоящее время в клинической практике применяются следующие фиксированные комбинации ИГКС+ДДБА: салметерол+флутиказон, формотерол+будесонид, формотерол+беклометазон. По результатам ряда исследований показано, что комбинация ДДБА+ИГКС эффективнее увеличенных доз ИГКС, быстрее позволяет достигнуть контроля над симптомами БА, и при использовании комбинированного препарата отмечается снижение количества обострений. Так, исследование GOAL [16] продемонстрировало преимущества комбинированной терапии ИГКС+ДДБА в достижении контроля над симптомами заболевания при среднетяжелой и тяжелой БА по сравнению с монотерапией ИГКС. В авторитетном исследовании N. Barnes et al. было показано, что при персистирующей БА терапия с использованием комбинации флутиказон/салметерол оказалась более эффективной по сравнению с монотерапией флутиказоном [17]. В метаанализе, включившем более 20 тыс. пациентов с персистирующей БА, применение комбинированного препарата салметерол/флутиказон сопровождалось снижением риска обострений заболевания, риска госпитализаций по сравнению с монотерапией ИГКС [18].
Таким образом, в целом ряде клинических исследований было доказано, что добавление ДДБА к низким и средним дозам ИГКС обеспечивает лучший клинический эффект, чем увеличение дозы ИГКС, что в конечном итоге легло в основу современной стратегии ведения больных с БА [12–14].
Очевидно, что большим преимуществом фиксированных комбинаций является не только их высокая эффективность в достижении контроля над симптомами БА, но и хорошая комплаентность за счет соединения 2-х лекарственных средств в одном ингаляторе. Стоит отметить, что представленные на российском фармацевтическом рынке оригинальные комбинированные препараты обладают достаточно высокой стоимостью, но появление в настоящее время дженерических форм, безусловно, расширяет возможности их применения в реальной клинической практике.
Так, в начале 2015 г. в России зарегистрирован препарат Сальмекорт – фиксированная комбинация салметерол+флутиказон в форме дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ) в дозировках 25/50, 25/125 и 25/250 мкг. Клиническая эффективность и безопасность Сальмекорта в сравнении с оригинальным препаратом в форме аэрозоля для ДАИ изучались в рамках клинического исследования, включившего 107 больных с персистирующей БА и нуждающихся в комбинированной терапии высокими дозами ИГКС+ДДБА [19, 20]. Препараты применялись в дозе 25/250 мкг по 2 ингаляции 2 р./сут, продолжительность наблюдения за больными составила 12 нед. В группу больных, получавших Сальмекорт, вошли 56 пациентов, группу сравнения (оригинальный препарат) составил 51 больной с БА. В ходе исследования Сальмекорт продемонстрировал сравнимые с оригинальным препаратом эффективность и безопасность. Так, количество пациентов с положительным ответом на лечение по данным спирометрии составило 35 (64,81%) в группе Сальмекорта и 25 (49,02%) – в группе больных, получавших оригинальный препарат (табл. 3).
При анализе контроля над симптомами БА с использованием опросника АСТ – теста по контролю над астмой (Asthma Control Test) в обеих группах был отмечен значимый прирост показателей на фоне лечения, при этом количество пациентов с приростом оценки как минимум на 1 балл составило 45 в группе Сальмекорта и 40 – в группе сравнения (табл. 4).
В ходе исследования пациенты указывали на уменьшение общего количества приступов БА. При сравнительном анализе оказалось, что статистически значимое уменьшение общего количества приступов астмы наблюдалось в группе больных, получавших Сальмекорт. Анализ частоты развития нежелательных явлений не выявил статистически значимой разницы между группами. Нежелательные явления были зарегистрированы у 9 (16,1%) пациентов, получавших Сальмекорт, и у 3 больных (5,88%) в группе сравнения.
Таким образом, практические врачи располагает теперь более широкими возможностями для базисной терапии БА.
Возвращаясь к принципам терапии, необходимо отметить, что системные глюкокортикостероиды не рекомендуются для поддерживающей терапии БА из-за развития побочных эффектов. Эти препараты применяются для лечения тяжелых обострений БА. Теофиллины длительного действия могут быть использованы в качестве препаратов второй линии у пациентов с персистирующей БА. Анти-IgE-препараты – новый класс лекарственных средств, используемых в настоящее время для улучшения контроля над тяжелой персистирующей атопической БА. В числе наиболее изученных препаратов стоит упомянуть омализумаб. Его применение наиболее оправданно у больных с высоким сывороточным уровнем IgE, нуждающихся в повторных госпитализациях, экстренной медицинской помощи, применяющих высокие дозы ингаляционных и/или системных глюкокортикостероидов.
Для достижения контроля над симптомами БА рекомендован принцип ступенчатой терапии [12]. Каждая ступень включает варианты лечения, которые могут служить альтернативой при выборе поддерживающей терапии БА. У большинства больных с симптомами персистирующей БА, не получавших терапии, следует начинать лечение со ступени 2. Если симптомы БА при первичном осмотре указывают на отсутствие контроля (табл. 5), то лечение необходимо начинать со ступени 3. Если лечение неэффективно или ответ на него недостаточен, проверьте технику ингаляции, соблюдение назначений, уточните диагноз и оцените сопутствующие заболевания. При принятии решения, дозу какого препарата снижать первой и с какой скоростью, должны быть приняты во внимание тяжесть астмы, побочные эффекты лечения, продолжительность приема текущей дозы, достигнутый положительный эффект и предпочтения пациента. Снижение дозы ингаляционных стероидов должно быть медленным в связи с возможностью развития обострения. При достаточном контроле возможно снижение дозы каждые 3 мес., примерно от 25 до 50%.
Литература
1. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Global initiative for asthma. Пересмотр 2006 г. / под ред. А.Г. Чучалина. М.: Атмосфера, 2007. 104 с.
2. Емельянов А.В., Черняк Б.А., Княжеская Н.П., Потапова М.О., Белевский А.С. Бронхиальная астма. Респираторная медицина / под ред. А.Г. Чучалина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. Т. 1. С. 665–692.
3. Asthma in America. Доступно на: www.asthmain-america.com.
4. Asthma insights reality in Europe. Доступно на: www.asthmaineurope.com.
5. Global Atlas of Asthma Published by the European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2013. Available from: https:// www.eaaci.org.
6. Лещенко И.В. Бронхиальная астма: распространенность, диагностика, лечение и профилактика – региональная программа в Свердловской области: Автореф. дисс. … докт. мед. наук. М., 1999.
7. Чучалин А.Г. Тяжелая бронхиальная астма // Русский медицинский журнал. 2000. Т. 8. № 12. https://www.rmj.ru/articles_1636.htm.
8. Социально-экономическое бремя бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких в Российской Федерации. Cводный отчет. М., 2009.
9. Accordini S., Bugiani M., Arossa W. et al. Poor control increases the economic cost of asthma. A multicentre populationbased study // Int Arch Allergy Immunol. 2006. Vol. 141. Р. 189–198.
10. Briggs A., Bousquet J., Wallace M., et al. Cost-effectiveness of asthma control: an economic appraisal of the GOAL study // Allergy. 2006. Vol. 61. Р. 531–536.
11. Sullivan S., Rasouliyan L., Russo P., et al. Extent, patterns, and burden of uncontrolled disease in severe or difficult-totreat asthma // Allergy. 2007. Vol. 62. Р. 126–133.
12. Чучалин А.Г., Айсанов З.Р., Белевский А.С. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы // Пульмонология. 2014. № 2. С. 11–32.
13. British Thoracic Society. Diagnosis and management of asthma in preschoolers, children and adults. Guideline update 2012 // Can Respir J. 2012. Vol. 19. № 2. Р. 127–164.
14. Global Initiative for Asthma 2014 (GINA) https:// www.ginasthma.com (last accessed 2014).
15. Bateman E., Reddel H., Erikson G. et al. Overall asthma control and future risk // J Allergy Clin. Immunol. 2010. Vol. 125 (3). Р. 600–608.
16. Bateman E., Boushey H., Bousquet J., Busse W., Clark T., Pauwels R., Pedersen S.; GOAL Investigators Group. Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study // Am J Respir Respir Crit Care Med. 2004. Vol. 170. Р. 836–844.
17. Barnes N., Jacques L., Goldfrad C., Bateman E.D. Initiation of maintenance treatment with salmeterol/fluticasone propionate 50/100 g bd versus fluticasone propionate 100 g bd alone in patients with persistent asthma: Integrated analysis of four randomised trials // Respiratory Medicine. 2007. Vol. 101. Р. 2358–2365.
18. Bateman E., Nelson H., Bousquet J., Kral K., Sutton L., Ortega H., Yancey S. Metaanalysis: Effects of Adding Salmeterol to Inhaled Corticosteroids on Serious Asthma-Related Events // Ann Intern Med. 2008. Vol. 149. Р. 33–42.
19. Княжеская Н.П., Осипова Г.Л. Новый препарат Сальмекорт в базисной терапии бронхиальной астмы // Русский медицинский журнал. 2015. № 4. С. 3–6.
20. Отчет клинического исследования. Протокол: GL-SF/2012-1. Исследуемый препарат Сальмекорт (25/250 мкг) в форме аэрозоля для ингаляций дозированного.
Источник